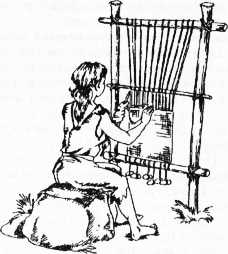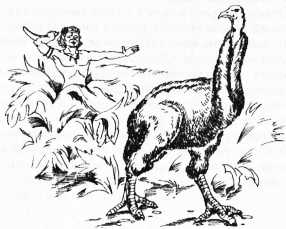концепция золотого века характерна для какого строя
Золотой век
Как установил Мирча Элиаде, подробно исследовавший эту тему, мифологема золотого века восходит ко временам неолитической революции и является реакцией на введение земледелия. Золотому веку неизменно сопутствуют мифологемы «потерянного рая» и «благородного дикаря». Это архетипический образ, лежащий в основе любой утопии.
Представления о золотом веке возникают в результате развития, конкретизации представлений о мифическом времени, особом начальном сакральном периоде, предшествующем эмпирическому (историческому) «профанному» времени.
В своих исследованиях эволюции этого мифа проф. Ю. Г. Чернышов показывает, что, хотя термин «золотой век» возводят обычно к поэме «Труды и дни» Гесиода, у Гесиода и ряда других греческих авторов в оригинале фигурирует не «золотой век», а «золотой род» (др.-греч. χρύσεον γένος). Само понятие «золотой век» (aurea saecula) впервые в античной литературе фиксируется только в I в. до н. э.: в «Энеиде» Вергилия (Aen. VI. 792—794), в «Метаморфозах» Овидия (Met. I. 89—90) и т. д. До этого в античной традиции была распространена не «хронологическая», а «генеалогическая» интерпретация мифа о жизни при Кроносе (Сатурне) и последующей истории: эта история мыслилась не как смена эпох, но как смена совершенно различных, никак между собой не связанных родов, геносов людей (у Гесиода — золотого, серебряного, медного, героического и железного), каждый из которых поочередно создавался богами и затем исчезал с лица земли. Отмечаемый у Вергилия и почти всех его последователей переход от «золотого рода» к «золотому веку» явился важнейшим качественным сдвигом в интерпретации мифа, позволившим актуализировать утопическое содержание древних преданий.
Согласно легендам, во время золотого века люди и боги жили совместно; тогда не было ни войн, ни частной собственности, ни болезней, а земля сама, без обработки, приносила людям свои плоды.
Понятие «золотого века» в культуре
Золотым веком культуры человечества называют мифологему, обозначающую образ счастливого человечества, которое получило в дар вечную юность, мир и праздность.
Понятие «золотого века» человеческой культуры
Золотой век – это мифологема, обозначающая образ счастливого, вечно молодого человека, который живет в бесконечной праздности и мире.
В своем труде «Работа и дни» Гесиод писал о том, что в этом мире люди были бы богами, не знающими горя, печали и тяжелого труда. В те времена, в которые жил Гесиод, люди относились к мифам, как к реальности и действительно верили в то, что «золотой век» культуры существовал на самом деле, а может быть придет вновь.
Золотой век воспевали не только античные поэты, но и люди эпохи Средневековья и Просвещения. Миф о «золотом веке» говорил о том, что когда-то давно случилось так, что человеческая жизнь утратила свое совершенство. Затем многие представления о «золотом веке» проецировались на человеческое будущее, в связи с чем он приобрел утопические черты. Соответственно, данная тема особенно интересна теоретикам социальной утопии, который находят в ней смысл, близкий к их концепциям. Идеальный образ прошлого дает возможность развивать социум. Затем у людей постепенно формировалось историческое мышление, в связи с чем мифологема «золотого века» человечества превратилась в идеальную концепцию, привлекающую утопистов и реформаторов. Особенно данная идея вдохновила людей во времена Великой французской революции.
Миф о «золотом веке» культуры человечества – это уникальное явление, оно лежит в основе многих культур. Человек регулярно возвращался к этой идее, раз за разом, вне зависимости от того, в каком историческом периоде находился и какими были условия его существования. Впервые упоминания о «золотом веке» встречаются у философов эпохи Античности, однако сами по себе корни данной идеи уходят глубоко в древность. Данная мифологема обрастала все новыми и новыми подробностями с каждой новой эпохой.
Периоды древних эпох
Современные ученые склоняются к тому, что «золотой век» наилучшим образом вписывался в периодизацию древности, предложенную Гесиодом в труде «Работа и дни», где им были выделены пять периодов. Поэт Овидий, живший в Древнем Риме, в своей работе «Метаморфозы» выделял четыре древних периода. Периоды, которые были выделены Гесиодом, совпадали с археологическими эпохами, которые были выделены современными учеными:
Овидий и Гесиод полагали, что «золотой век» был колыбелью человечества. Он начался при Кроносе-Сатурне, а завершился в эпоху Зевса-царя. Мыслители эпохи Античности описывали данный период как «вечную весну», когда природа одарила людей щедрыми богатствами, а у людей были огромные стада.
После «золотого века» наступил «серебряный», который начинался с правления Зевса-Юпитера. В это время климат испортился, люди были вынуждены строить укрытия из ветвей и других материалов, которые попадались под руку, а также учиться вспахивать поля. В те времена среди людей еще не были распространены жертвоприношения богам.
Четвертый период отсутствовал у Овидия, однако Гесиод выделял его и называл родом героев. Данный период был перед веком «железных» людей. В данный период было хорошо развито мореплавание, однако было очень много битв и войн, которые так или иначе привели к тому, что данное поколение погибло.
Последнее поколение жило в период железного века. Данный период характеризовался разрушением системы семейных ценностей, падением моральных устоев, умы людей будоражила жажда наживы, многочисленные войны и завоевания.
В древнеиндийском произведении «Махабхарата» также упоминалось о том, что история человечества делилась на древние периоды, которые назывались «югами». Древние индийцы выделяли такие периоды:
В данной периодизации также показано то, как постепенно ухудшалась жизнь людей, начинали падать устои их морали и нравственности, людей поглощала жажда наживы и власти.
В представлении древних индийцев важнейшее значение придавалось драхме – совокупности установленных правил и норм, которые необходимо соблюдать для того, чтобы поддерживать космический порядок. В золотой период драхма царствовала над всеми людьми. В серебряный она двигала только тремя четвертями людей, в то время как остальные были подвержены беззаконию. В медный период дхарма была вытеснена беззаконием наполовину, а в железный – дхармой пренебрегали три четверти населения. Таким образом, можно увидеть, как по мере движения развития общества, люди становились все более слабыми не только физически, но также и духовно, и морально. Главная характеристика данной периодизации заключается в ее цикличности, в соответствии с которой после Калиюги должна была снова наступить Критаюга, которая в данном случае была бы представлена особо высокоразвитой цивилизацией.
Данные описания периодов, несмотря на свою нечеткость, есть в древнегерманских и древнеславянских сказаниях, что указывает на архаическую основу данной периодизации и описание «золотого века» культуры человечества.
Таким образом, можно сказать, что периодизации культуры человечества, которые были даны в произведениях Овидия и Гесиода, в Махабхарате, в сказаниях древних германцев и славян, а также представителей разных культур, также совпадает с современной археологической классификацией древних эпох:
«Золотой век»
Считается, что «Золотой век» — состояние первобытного общества, свободного от частной собственности и классовых антагонизмов и якобы не знавшего экономического, экологического и политического кризисов. Яркий и образный термин возник впервые в трудах античных мыслителей и литераторов, которые различали в соответствии с мифологической традицией несколько веков в истории человечества.
Самый ранний назван «золотым», поскольку в это время люди жили в мире и согласии под мудрым правлением бога Сатурна. Затем наступил «серебряный век», когда к власти в античном пантеоне пришел Зевс. Жизнь к тому времени резко изменилась в худшую сторону, однако Громовержец быстро навел порядок своими стрелами-молниями. Боги по-прежнему были ближе к земле и людям, отчего жизнь в целом текла спокойно. Затем пришел «медный век», принесший раздоры среди богов и разобщивший людей. В «железный век» бытие человеческого рода резко ухудшилось: люди утратили страх перед богами и ожесточились. Миропорядок стала определять война.
Во времена «серебряного века» во главе греческого пантеона богов-олимпийцев стоял Громовержец Зевс
Многие ученые и философы XVIII–XIX столетий не без влияния ранних просветителей Д. Дидро, Ж.-Ж. Руссо и других присвоили доисторической эпохе романтическое название «золотого века», поскольку искренне верили в то, что первобытный человек жил в гармонии с собой, миром и окружающими. Современной наукой доказана нереальность «золотого века» во времена первобытнообщинного строя, хотя многие философы-гуманисты и историки по-прежнему упорствуют в устоявшихся взглядах. Нетрудно назвать причины, по которым первобытная жизнь не может считаться идеальной.
Неравенство существовало и в первобытном обществе, а это означает наличие механизмов угнетения. Самым главным институтом власти и угнетения являлось вождество, т. е. безраздельное господство вождей, которые распределяли продукты и работы, устанавливали законы в форме табу, вершили суд. В имущественном отношении все были равны, но это было неизбежно в условиях, когда единственным источником пропитания является охота и собирательство. Мужчина-охотник должен был хорошо питаться, чтобы поддерживать свои силы, и никакой вождь не имел права отбирать у охотников еду, ведь каждый добытчик дичи был на счету.
Имущественное равенство принимало уродливые формы. В некоторых племенах каждую найденную вещь немедленно разрывали на клочки, чтобы все получили по куску. Предмет становился абсолютно бесполезным, хотя его можно было бы употребить с пользой хотя бы в отношении одного человека. Этим человеком мог оказаться больной сородич, новорожденный, ветхий старик.
Вызывает возмущение у цивилизованного человека первобытный суд. Все представления о справедливости во времена родового строя сводились к принципу талиона: око за око, зуб за зуб. Любопытно, что одной из типичных форм наказания за многие проступки был остракизм (изгнание), равнозначный смерти, т. к. в одиночку первобытный человек выжить не мог. Другая, менее частая, но обычная форма особо жестокого наказания — зомбирование. Это превращение неугодных в зомби (живых мертвецов) или порча, т. е. провоцирование болезни или смерти неугодных посредством внушения. Колдуны ловко использовали безоглядную веру своих соплеменников во всемогущество магии и легко расправлялись с любым проблемным человеком, подчиняя его сознание.
Известны многочисленные случаи грабительских войн в первобытную эпоху, особенно с началом «железного века», когда появляются первые укрепленные поселения — городища. Отечественным археологам известны военные конфликты дьяковских племен, населявших Подмосковье в «железном веке» и также строивших городища. К слову, под «железным веком» в археологии понимается настоящий век металла, выделенный современными учеными и длившийся с 2500 лет назад до начала I тыс. н. э.
Почти повсеместно в доисторические времена процветали кровавые жертвоприношения и каннибализм. Некоторые жертвоприношения со временем оформились в ужасающие своей жестокостью культы ритуальных убийств. Не менее известны жертвоприношения, связанные с похоронными обрядами. На похоронах племенного царька или другого представителя знати забивались в большом количестве домашние животные и люди, в первую очередь жены умершего, чтобы обильно полить кровью жалкие кости. У древних славян сохранился в качестве наследия от тех времен обряд тризны (принесение в жертву коня на могиле покойного хозяина).
Каннибализм получил широкое распространение в первобытные времена. Неандертальцы и ранние кроманьонцы, предположительно, вообще не брезговали человеческой плотью и не видели ничего предосудительного в том, чтобы съесть своего больного или старого сородича или ребенка. Долго процветало поедание трупов, т. е. умерших людей. Поедание врагов приняло характер ритуала и получило мифологическое объяснение: это необходимая акция, поскольку людоед получает от съеденного врага все его достоинства — силу рук, быстроту ног, зоркость глаз и т. д.
В суровых условиях первобытного строя господствовало отношение к женщине как к обузе, неизбежное при образе жизни, когда главной экономической функцией являлась охота. Женщина не могла заниматься охотой, поэтому сильные мужчины занимали более высокое положение в коллективе. Имело место и искусственное поддержание низкого статуса женщины. Им поручали с детских лет крайне трудоемкую работу. Нередко работа женщин была примитивна, а потому приводила к их умственному недоразвитию и интеллектуальной деградации.
В первобытном обществе женщины выполняли самую трудоемкую работу
Первобытный матриархат действительно наблюдался у некоторых племен, но философы XIX столетия, как считается сегодня, объясняли этот феномен неправильно. Власть женщин сводилась к выполнению тех функций в управлении хозяйством, которые отказывались осуществлять мужчины. Сами же мужчины были поглощены военными набегами на соседние селения и прочими делами, запустив хозяйство собственной деревни.
В первобытном обществе женщины часто служили предметом торговли между деревнями, причем цена одной «единицы товара» была меньше цены на мясо и равнялась связке бананов или чему-нибудь подобному. Процветало похищение женщин, когда купить их было невозможным. Такое воровство приводило к военным столкновениям между племенами.
Наиболее типичными последствиями принижения социальной роли женщины являются обряды ритуальной дефлорации и клитороэктомии. Ритуальная дефлорация — инициация девушек, праздник в честь их вступления во взрослую жизнь. Обряд подразумевает лишение девственности, которое осуществляли все мужчины племени, после чего молодая женщина доставалась своему супругу. По современным представлениям, это акт насилия, но во времена «золотого века» подобные вещи являлись нормой. Клитороэктомия — ритуальное хирургическое удаление у замужней женщины клитора с целью превращения ее в бесчувственную машину для деторождения, неспособную на сексуальные реакции.
Что касается фантастического здоровья первобытных людей, то это выдумка. Они страдали массой заболеваний — простудой, сифилисом, дефектами скелета. Особо сильны были нарушения обмена веществ и прочие последствия недоедания. Стресс также был очень частым, поскольку доисторическому человеку приходилось постоянно сталкиваться с пещерными львами, саблезубыми тиграми, леопардами и прочими опасными хищниками.
Первобытный человек боялся молнии, урагана, затмений и прочих явлений природы, перед которыми не испытывает страха современный человек. Наш предок находился в плену у грубейших суеверий. В результате многочисленных потрясений и испытаний у древних людей снижалась средняя продолжительность жизни, равнявшаяся примерно 25 годам.
Отсюда легкое отношение к детской смертности: «боги дали — боги взяли». Высокая смертность среди детей была неизбежна в условиях отсутствия гигиены и элементарных медицинских познаний. Также широко практиковался инфантицид (детоубийство) по разным причинам — культовое жертвоприношение, болезнь ребенка, нежеланный ребенок. Чаще всего нежеланными были девочки. Племени требовались мальчики как будущие охотники, а вот женщины считались обузой.
Этнографы, изучавшие современные племена с традиционным укладом быта, описывают инфантицид следующим образом. Мать рожала ребенка, уединившись в лесу и, разумеется, без помощи повивальной бабки. Если рождалась девочка, на которую не давалось разрешения совета старейшин, мать убивала дочку, разбивая ей голову о дерево. Затем выжидала какое-то время, чтобы не вызвать гнева мужа, и возвращалась в селение.
Добычей первобытного человека нередко становился страус моа
Вместе с тем жизнь первобытного общества нельзя считать чередой насилия и бездумной жестокости. Доисторический человек умел любить, сочувствовать, сострадать ближним. Первобытные люди рисовали на стенах пещер, черпая вдохновение из мира природы. Эти люди торжественно хоронили умерших, устраивали веселые празднества в знак удачной охоты, молились богам. Наши пращуры зачастую отличались щедростью и простодушием. Альтруизм, т. е. готовность прийти на помощь, являлся фактически движущей силой эволюции человека.
Еще Ч. Дарвин категорично утверждал: «…те общества, которые имели наибольшее число сочувствующих друг другу членов, должны были процветать больше и оставить после себя более многочисленное потомство». Дарвин рассуждал просто и здраво. В одиночку человек ни за что не выживет в условиях дикой природы, поэтому мы являемся коллективными существами. Естественный отбор уничтожал коллективы со слабыми внутренними связями. Если внутри коллектива не было достаточно понимания и участия, то он неактивно защищался от влияния экстремальных условий среды, потому что действия людей не были слаженными.
Крепкие коллективы с дружескими отношениями стойко противостояли природе, потому что в этих обществах главенствовало правило трех мушкетеров — «один за всех и все за одного». Естественно, что дети, рожденные в этих коллективах, выживали чаще. Со временем потомки крепких обществ вытеснили нестойкие общества. Гены, отвечающие за социальные навыки, закреплялись в новых поколениях.
Английский специалист по теории эволюции Дж. Холдейн высказал однажды мнение, что среди этих генов важную роль играли «гены альтруизма». Генетики таких генов пока не нашли, но почти все современные ученые убеждены, что одним из факторов становления человека являлись альтруистические наклонности, поскольку они обеспечивали своим обладателям преимущество в коллективной борьбе за выживание.
Следовательно, древний человек не просто был знаком с гуманностью и альтруизмом, но и выжил во многом благодаря им. Точно так же и в наши дни находится место одновременно для зла и добра. «Золотого века», к сожалению, никогда не было. Но радует то, что никогда не было и «железного века».
Читайте также
ЗОЛОТОЙ СКАРАБЕЙ
ЗОЛОТОЙ СКАРАБЕЙ Агенты в Сен-Жорьез были очень заняты. На ферме в Фаверже Алек Рабинович не отходил от своей рации, ожидая сообщения из Лондона о возвращении Питера Черчилля. В конце концов нужная информация была получена. Выяснилось, что летчик сбросит его над
Золотой сад
Золотой сад На этом судне испанцы достигли залива Гуаякиль, на южном берегу которого увидели огромный город Тумбес с каменными дворцами и храмами. Писарро отправил на разведку двух спутников. На берегу местные жители напоили гостей ароматными напитками и пригласили в
Золотой мираж Сахары
Золотой мираж Сахары В Средние века по Европе ходили удивительные легенды о таинственном и очень богатом городе Томбукту в Западной Африке. Целых пятьсот лет оставался он для европейцев неуловимой мечтой – золотым миражем пустыни
Золотой урожай
Золотой урожай Отпраздновав победу, флибустьеры принялись потрошить город по знакомому сценарию: тотальный обыск домов от подвалов до крыш, истязания граждан, которые успели спрятать свои сокровища, требования дани. Морган угрожал сжечь город, а всех заложников предать
Золотой переулок
Золотой переулок … А потом зажгли фонари, и неестественно желтый свет залил переулок. Он был неприятным и зыбким, казалось, что дома заразились инфекционным гепатитом. Я стоял у часовни, построенной в конце переулка, смотрел на Столешников, и он был удивительно похож на
Путешествие в «золотой город»
Путешествие в «золотой город» В 1596 году лондонское издательство Роберта Робинсона выпустило книгу, ставшую сенсацией. Тираж повторили, а вскоре во Франции, немецких княжествах, Голландии вышли ее переводы. Полное название книги: «Открытие обширной, богатой и прекрасной
«Золотой эшелон»
«Золотой эшелон» Что касается остатков русского золотого запаса, то судьба его, по воспоминаниям, была такова: «Телеграфисты Совнаркома приняли телеграмму из Иркутска на имя Владимира Ильича. В ней сообщалось, что на вокзале Иркутска находятся вагоны с золотом.По
«Золотой гол»: издевательство над футболом
«Золотой гол»: издевательство над футболом Возможно, это было всего лишь желание «вдохнуть новую жизнь» в отжившие свое, как это кому-то показалось, правила. Иначе как можно объяснить, что в 1993 году в ФИФА зародилась идея «золотого гола» — аналога так называемой внезапной
На золотой тарелке
На золотой тарелке К их услугам замки, дворцы, поместья всей Британии и четыре королевские резиденции в Лондоне, в том числе Кенсингтон, Сейнт Джеймс, Букингемский дворец, где в детстве мальчики играли в пожарников на действующих моделях пожарных машин.Когда Уильяму было
7 ЗОЛОТОЙ ВЕК КАРТЕЛЯ
7 ЗОЛОТОЙ ВЕК КАРТЕЛЯ 18 апреля 1981 года, перед приездом в Боготу Джонни Фелпса, молодые колумбийские короли кокаина устроили «встречу в верхах» на побережье Карибского моря неподалеку от Барранкильи. Здесь находилось ранчо Хорхе Очоа — асьенда «Веракрус». На повестке дня
ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕЦ
ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕЦ На протяжении всей истории России золото было не только основой ее финансовой системы, но и ее главным стратегическим резервом. Поэтому золотой запас страны оберегали и накапливали все правители России, за исключением М. Горбачева. В период перестройки
Мировоззрение «золотого века» и его истоки
В настоящее время внимание многих философов, педагогов, психологов, физиологов приковано к проблеме раннего детства. Этот интерес вполне объясним. Дело в том, что именно в первые годы жизни формируются наши взгляды на окружающую действительность, происходит их социализация. Еще не умея говорить, ребенок с огромным энтузиазмом показывает, как он любит родителей, братьев, сестер, как он готов делиться с ними игрушками, гостинцами. Пробуждению интереса исследователей к мировоззрению ребенка во многом способствовали труды выдающегося мыслителя-гуманиста XX в. Л. С. Выготского. Большой резонанс у специалистов разного профиля вызвали также работы швейцарского психолога Ж. Пиаже, который выявил близость детского и мифологического мышления. Л. С. Выготский писал: «Исследования Пиаже составили целую эпоху в развитии учения о речи и мышлении ребенка, о его логике и мировоззрении. »[1]
Физическое, умственное, нравственное развитие ребенка традиционно протекает под контролем общества. Этот контроль подчас отличается поразительным педантизмом. Даже антропометрические данные членов социума: формы черепа, прикуса, длина ушей, шеи – в традиционных обществах зачастую оказываются регламентированными и подлежат искусственной корректировке. Эта корректировка во многих случаях бывает эффективной именно в раннем возрасте. Есть все основания полагать, что этот ответственный отрезок человеческой жизни, изначальная среда обитания ребенка, опыт его воспитания нашли отражение не только в трудах ученых, но и в древних учениях, идущих из глубины веков.
«Золотой век» – мифологическое представление, существовавшее в античном мире, согласно которому первые времена человечества отличаются безоблачностью, беззаботностью. Зародышевую форму таких представлений можно найти и у многих первобытных народов, сохранивших мифы об изначальных временах, когда человеку не надо было трудиться, когда предки человека были наделены чудесными способностями, а окружающий мир был рукотворен и полон чудесных превращений. Представления о «золотом веке», утраченном земном рае можно встретить и в развитых религиозно-мифологических представлениях. До сих пор не перевелись энтузиасты, которые пытаются отыскать Шамбалу, Беловодье.
Современная наука не смогла убедительно объяснить причину стойкой веры народов в «золотой век», в сказочные страны. Она категорически отрицает существование в прошлом таких времен, когда человеку все доставалось даром, когда его выкармливали мифические существа (животные-предки, божества), которые общались с ним на общедоступном языке, учили разным премудростям. В основе скептического отношения современной науки к сказочным древностям лежат свидетельства археологической науки, которая не располагает данными, подтверждающими существование в прошлом сказочных вещей и существ.
Термин «археология» (наука о древностях) впервые употребил древнегреческий философ Платон (427–347), однако до сих пор научный мир не выработал четкого представления о предмете, задачах археологии, хронологических рамках науки о древности. Так, например, существует «современная» археология, которая изучает современный культурный слой. Общим для представителей всех археологических школ является то, что они полностью игнорируют предметы, орудия труда, жилища, утварь, которые порождены подлинным рукоделием без привлечения посторонних материалов. Крайний механицизм, примитивизм, который культивируется современной археологией, предельно затрудняет понимание того, что подлинная человеческая архитектура, подлинные человеческие древности, снасти, ценности, как и человеческая культура, человеческое искусство, неотделимы от человека.
Наблюдая за возможностями человеческой руки, даже величайший киник способен сделать весьма важные археологические открытия. Такое открытие в свое время сделал Диоген, наблюдая за рукой человека, рефлекторно утоляющего жажду. Диоген поспешил не только избавиться от кружки, отягощавшей его суму, но и поделился своим открытием с товарищем, с гордостью отметив: «Как могущественна природа, которой мы, служа спасению людей, снова возвращаем ее значение, хотя люди, исходя из ложных убеждений, выбрасывают ее вон из жизни»[3].
О том, что рука породила человечество, написано много, однако до сих пор нет музеев, посвященных руке, нет серьезных обобщающих трудов, посвященных ручному мышлению, ручной речи. Нет и фундаментальных трудов о роли руки в формировании представлений о мерах, номерах, камерах, кумирах, мерных пространствах, рукотворном космосе и других аспектах традиционного мировоззрения. Как и во времена Диогена, мы отрицаем природные (сказочные) ценности, хотя скатерти-самобранки, палицы, которые выскакивают из сумы (суммы) и больно наказывают обидчика, составляют нашу конституцию. Отрицая существование сказочных самодвижущихся орудий, выдавая содержимое выгребных ям за подлинные человеческие снасти, ценности, древности, археологи лишают человечество самосознания, исторической памяти, придают исторической науке ярко выраженную антигуманную, антибиологическую (антижизненную) направленность.
Надо сказать, что любое противопоставление биологического и культурологического подходов глубоко антинаучно. Дело в том, что именно биология традиционно занимается окультуриванием различных растений, организмов, социумов и прекрасно разбирается не только в культуре гороха, но и в культуре человека. Без биологических познаний немыслима самая древняя, самая гуманная, самая мудрая наука – медицина. Об этом часто забывают даже антропологи, которые пытаются совместить биологический и культурологический подходы к своему предмету. Антропологическая наука традиционно игнорирует тот факт, что животноводством, птицеводством занимаются не только люди, но и животные, птицы в ходе воспроизводства себе подобных. Игнорируя этот естественный вид трудовой деятельности, невозможно создать полноценную эволюционную теорию, полноценное учение об истоках сознательной деятельности, об антропосоциогенезе.
Воспитание имеет естественные корни и неразрывно связано с развитием, прогрессом, причем не только человека. Так, например, К. Д. Ушинский писал: «Слово воспитание прилагается не к одному человеку, но также к животным и растениям, а равно к историческим обществам, племенам и народам, то есть к организмам всякого рода, и воспитывать в обширнейшем смысле слова, значит способствовать развитию какого-нибудь организма посредством свойственной ему пищи, материальной или духовной. Понятия организма и развития являются, следовательно, основными понятиями воспитания»[4]. Именно понятия организма и его развития полностью выпали из поля зрения исследователей, занятых изучением древних мифов мировоззренческого характера.
Изучение процесса введения в культуру различных биологических объектов привело к становлению теории центров происхождения культурных растений, домашних животных[5]. Может показаться, что распространить естественно-исторический подход на истоки орудийной деятельности, искусства, языка, словесности не представляется возможным, поскольку невозможно найти центры «произрастания» первых зубил, резцов, палиц, лопаток, саней, снарядов, героев, божеств, словес, музыкальных инструментов, храмов и т. д. Между тем такая возможность существует, если отстраниться от примитивизма, механицизма и ориентироваться на данные жизненных наук (медицины, биологии, бионики), а также на древние учения, которым свойственны биоморфизм, антропоцентризм.
Комплексное изучение материальной и духовной культуры «раннего детства» (первых времен существования человека) со всей очевидностью свидетельствует, что «для младенца материнские руки, ладони (длани) являются всем: материками, долинами, колыбелью, ковром-самолетом, сказочной козой, которая кормит, наказывает, учит показывать (сказывать) и т. д.»[6]. Изучение этого предельно актуального мифического (естественного, материального, духовного) универсума позволяет преодолеть механицизм, который господствует в современной исторической науке. Это изучение подтверждает правомерность веры в сказочную древность, а также в объективное существование тех реалий, которые так ярко отразились в мировоззрении первобытных народов, в их взглядах на первые времена человечества.
Без объективизации взглядов на мировоззрение «золотого века», на мать-землю, на колыбель человечества, на рукотворный космос, антропоморфный гумус, без пристального изучения вещающих вещей, самодвижущихся орудий, тотемов, сказочных животных-наставников, их языка невозможна подлинная философия истории. Без соблюдения принципа историзма невозможно также решение многих фундаментальных проблем философии, лингвистики, фольклористики, этнографии, археологии, культурологии, социологии и других дисциплин, призванных пролить свет на феномен человека, его культуры.
В данной статье выявляется роль руки (символическая, логическая, космологическая и т. д.) в процессах исходного смыслообразования, лежащего в основе мифологического мышления, мировоззрения.
Изучение мифических реалий показывает, что трактовать сверхъестественное как неестественное нет оснований: сверхприбыль – прибыль, суперзвезда – звезда, сверхъестественное – естественное. Изначальное знакомство ребенка с бесконечно динамичным, бесконечно сложным универсумом позволяет ему в дальнейшем все новое воспринимать как давно забытое старое, а также описывать Макрокосм посредством представлений, понятий, лексики, свойственных Микрокосму. Изначальные мифические (естественные, рукотворные) образы, шкалы, меры, универсалии накладывают неизгладимый отпечаток на развитые формы мыслительного процесса. Они с огромным энтузиазмом культивируются не только в науке, которая широко использует понятия, свойственные мерному пространству, но и в самых широких слоях цивилизованного общества, которые воспринимают ремифологизацию сознания как его углубление, как приобщение к духовным началам.
Относительно природы исходных мифологических универсалий исследователями высказываются самые различные догадки. Они трактуются как врожденные идеи, априорные формы, архетипы, образы, почерпнутые из иных миров, от богов, от космических существ, как продукт дологического мышления, отражение темных сторон социального бытия, проявление детского эгоцентризма и безудержной фантазии и т. д. Туманность и противоречивость подобных трактовок, отсутствие в науке общепринятого взгляда на природу и смысл древних мифологем подрывают доверие к науке, а также порождают стремление осмыслить древние учения без опоры на научные догмы.
Цель жизни – жизнь. Истоки основных феноменов человека, включая истоки мифологического мировоззрения, всегда будут загадкой, пока становлением общества, мифологического сознания занимаются люди, бесконечно далекие от жизненных проблем, решаемых специалистами в области техники безопасности, здравоохранения, несущими персональную ответственность за жизнь конкретного человека, за его сознание, самосознание. Так, например, современная историческая наука полностью игнорирует тот факт, что научить ребенка не использовать колющие, режущие, рубящие орудия, внушить ему заповедь «не убий» – сложнейшая и жизненно важная проблема, которая глубоко волнует матерей на самой ранней стадии антропосоциогенеза, через которую проходят все мыслящие существа. Эта проблема должна была возникнуть уже у наших далеких предков при их переходе к наземному образу жизни.
Для выявления сущности антропосоциогенеза очень важно определить видовое качество человека, его место в царстве живых существ. К. Линней, включивший человека в систему животного царства, не решился дать определение человеку и вместо его таксона сформулировал пожелание: «Homo sapiens nasee te ipsum» («человек разумный, познай себя самого»). Без серьезных оснований усеченная форма этого пожелания стала трактоваться как видовой признак человека, что лишило широкий круг исследователей правильной ориентации при освещении культуры человека. Культура камня, бронзы, железа, производственные технологии, вычислительные системы, преходящие ценности вытеснили культуру человека из сознания ученых, призванных изучать непреходящую ценность человеческой психики – человечность.
Цивилизация упрощает культуру общения, огрубляет человеческие чувства. В. И. Иохельсон, изучавший культуру юкагиров, которая считалась самой архаичной на территории Российской империи, писал: «Надо действительно удивляться стыдливости примитивного племени, семейная и общественная жизнь которого еще протекала в условиях каменного века. От столкновения именно с более культурными народностями, якутами и русскими, стыдливость понизилась у юкагиров»[12].
Больше всего на начальном этапе освоения заостренной палки-копалки страдали малыши. «Когда у обезьяны рождается детеныш, он рефлекторно сжимает всеми четырьмя конечностями шерсть на теле матери и повисает под ее грудью, спиной книзу. В таком состоянии детеныш остается и тогда, когда спит, и тогда, когда бодрствует»[13]. Перемещаясь на четырех конечностях с зажатой в руке палкой-копалкой, мать подвергает ребенка страшной опасности. Естественно, что у матерей с редуцированным волосяным покровом, а также у мамаш, которые освоили прямохождение, было больше шансов оставить потомство.
Следует подчеркнуть, что прямохождение – отнюдь не врожденная способность человека, а феномен человеческой культуры, феномен сознания. Многочисленные случаи воспитания человеческих детей животными подтверждают это. Факты свидетельствуют, что наши предки освоили прямохождение, ввели в культуру технику безопасности, стали сознательными на самой ранней стадии антропосоциогенеза. Таким образом, забота о человеческой конституции, о предельно сложном, предельно хрупком организме, а отнюдь не обтесывание камня, составляла и составляет главную проблему на самых ранних ступенях антропосоциогенеза и лежит в основе психогенеза, глоттогенеза, мифогенеза, социогенеза.
Новые открытия говорят о том, что прямохождение, увеличение размеров мозга и другие «человеческие» признаки появились за несколько миллионов лет до возникновения искусственных орудий, причем не в ходе эволюции, а скачком. Факты также неоспоримо свидетельствуют, что «однотипные по уровню развития общества могут пользоваться или не пользоваться железом, бронзой, а в отдельных случаях и камнем. Археологическая периодизация лишилась общего признания»[14]. Общее разочарование затронуло не только археологическую периодизацию, гипертрофирующую роль надуманных ценностей в антропосоциогенезе. Все большее число исследователей склонно критически воспринимать трудовую теорию антропосоциогенеза, что порождает острый кризис в широком комплексе наук о природе человека, истоках его сознания, его культуры. Под псевдореволюционным лозунгом «Труд создал человека» с легким сердцем подпишутся и папа римский, и фантазеры, превратно воспринимающие древние мифы о космических существах, породивших человека, человеческую культуру. Выход из идейного тупика в науках о человеке, его культуре вполне возможен, если не абстрагироваться от жизненных проблем.
Забота о человеческой конституции, приобщение к заповеди «не убий», приобщение к самой древней, самой мудрой и гуманной науке (медицине) требуют сочувствия, сознания, развитого языка, духовности. Заботливые матери начинают знакомить своих детей с самыми ужасными трагедиями и драмами, с профилактикой травматизма задолго до того, как они научатся ходить и понимать звуковой язык. В книге «О театре волжских булгар и природе театрального искусства» нами показано, что «особую роль в демонстрации трагических последствий необдуманных поступков играет язык жестов. Обращение к языку жестов, пантомиме позволяет пролить свет на истоки театра»[15], а также на природу языка.
Исследователи детской речи все больше внимания уделяют дословесной системе коммуникации. Эта система в настоящее время рассматривается исследователями в качестве протоязыка. Так, например, Е. И. Исенина в своей книге «Дословесный период развития речи у детей» пишет: «Протоязык — это смысло-семантическая дословесная система средств коммуникации. »[16]
Мысль о примате языка жестов, о том, что сказания изначально показывались, отнюдь не нова. Она регулярно воспроизводится в научной литературе со времен Дж. Вико. Вопросы порождает причина, вызвавшая этот язык к жизни, а также реконструкция исходного языка. В ряде публикаций нами «в качестве исходного общечеловеческого языка предложено рассматривать систему чисто рефлекторных жестов, вызванных болезненными процессами, протекающими в организме. Такие жесты являются сигналами сигналов. Они позволяют констатировать не только эмоции, но и больные органы»[17]. Подобные реакции при их имитации позволяют сознательно «ректи», изрекать. Они широко используются матерями для предупреждения детей об опасности на самых ранних стадиях антропосоциогенеза.
При великом изобилии гипотез истоки языка до сих пор не принято связывать с печатным процессом. Игнорирование печати, прессы исключает всякую возможность разобраться в исходных человеческих впечатлениях, в истоках человеческой экспрессии, понять смысл древних учений, постигнуть природу мифологического сознания, природу словесного Микрокосма.
Мифы, фольклор многих народов говорят о существовании в глубокой древности удивительных книг, которыми пользовались врачеватели, герои, звездочеты и т. д. Чудесные, гадальные, волшебные книги позволяли предсказывать судьбу, распознавать самые сокровенные тайны, а также лечить людей простым наложением этих книг на раны. Вот как описывает обращение к подобной книге Н. В. Гоголь в повести «Страшная месть»: «Святой схимник перекрестился, достал книгу, развернул – и в ужасе отступил назад и выронил книгу.
– Нет, неслыханный грешник! Нет тебе помилования! Беги отсюда! Не могу молиться о тебе!
– Нет? – закричал, как безумный, грешник.
– Гляди: святые буквы в книге налились кровью. Еще никогда в мире не было такого грешника!»[18]
Оттиски, которые оставляют окровавленные руки, чисто рефлекторно зализываются вместе с ранами. Мифы об изначальной письменности, грамоте, которая оказалась съедена, смыта, широко бытуют у множества бесписьменных народов, а также у народов, которые недавно приобщились к ней[19].
Если вспомнить, что удами, оудами, оудесами назывались естественные органы, то обнаружение такого «цэ уда», как чудесная книга, предельно облегчается. Дело в том, что сложенные определенным образом руки до сих пор означают почитание, причитание. Уже малые дети регулярно используют эти книги, чтобы хныкать. Все великие математики и логики приобщались к науке не без помощи волшебных книг.
Чудесные книги, заостряющие внимание на нашем самочувствии, состоянии, на нашей конституции, обеспечивающие неразрывную связь между психологией, логикой, математикой, грамматикой, имеют огромное значение не только в хиромантии, диагностике. Обращение к книгам, констатирующим человеческую конституцию, крайне важно при философском осмыслении истоков человеческого сознания, самосознания, всей человеческой истории. К. Маркс был глубоко прав, когда писал: «Первая предпосылка всяческой человеческой истории – это, конечно, существование живых человеческих индивидов. Поэтому первый конкретный факт, который подлежит констатированию – телесная организация этих индивидов и обусловленное ею отношение к остальной природе»[20].
Отрыв от историзма, от жизненных реалий, от подлинной мудрости, человечности, духовности, от традиционных взглядов на мир, на богочеловека чаще всего происходит, когда люди забывают о самой древней и человечной науке – медицине, науке, лежащей в основе культов легендарных спасителей, врачевателей (Асклепия, Иисуса и т. д.). Роль этих культов в становлении современной культуры, духовности трудно переоценить. Забота о человеческой конституции, о нашем умственном и психическом здоровье требует не только сочувствия, сознания, но и семиотических познаний, языка, способного отразить широчайший спектр состояний сложнейшего объекта во вселенной. Язык медицины, язык биологии, язык жизни сказочно богат. Он разительно отличается от убогого жаргона досужих фантазеров. Следует заметить, что само слово семиотика почерпнуто лингвистами и философами из медицины. О тесной связи вещания, лексики с лекарской практикой писал еще классик филологической науки Ф. И. Буслаев. По его наблюдениям, «…от глагола ба-ять происходит балий, уже в фрейзингенской рукописи употребляющееся в значении врача, а потом это слово получило смысл колдуна; так в “Азбуковнике” объясняется: “балия ворожея, чаровник; бальство ворожба”. И наоборот, корень вед, откуда произошло слово ведьма, у сербов получает название лечения: видати – лечит, видар – лекарь, точно также, как от глагола вещать, то есть говорить, у сербов виештац – колдун и виештица – колдунья, а у нас в Вологодской губернии, вещетитинье уже лекарство. Точно также и врач у сербов и болгар получил смысл колдуна, предсказателя, как у нас в старину врачевать значило колдовать, и, наконец, лекарь (от корня лек – значит лекарство), уже у Ульфилы встречающееся в том же значении (ltikeis, lekeis) и распространившееся по всем, как немецким, так и славянским наречиям, имеет при себе и значение колдуна. »[21].
В санскрите связь гаданий, речи с болезнью, хвори с говором, пальцовкой представлена предельно выпукло:
I gada: 1) речь, разговор; 2) изречение;
II gada: болезнь, недуг;
Рана, расположенная под рукой (до руки), и является исходной друкарней, которой человечество обязано сокровенной печатью, орнаментом, таблицами судеб, книгами мертвых, кранами, коранами, корнями подлинной мудрости и т. д. Кровавые оттиски могут быть получены чисто рефлекторно, что свидетельствует об их глубокой древности. Вот как описывает этот жуткий процесс Лукреций Кар, которому были не чужды подлинные проблемы человечества:
Правда, тогда человек, в одиночку попавшийся, чаще
Пищу живую зверям доставлял и, зубами пронзенный,
Воплем своим оглашал и леса, и дубравы, и горы,
Видя, как мясом живым он в живую уходит могилу.
Те же, кому удавалось спастись и с объеденным телом
Прочь убежать, закрывая ладонью дрожащею язвы
Гнусные, Орка потом ужасающим криком на помощь
Орка призывать в таких случаях совершенно излишне, поскольку он под рукой, и каждый мог убедиться в этом, не прибегая к услугам оракулов.
Уже первые врачеватели должны были обнаружить, что не вопли страдальца, а руки, их отпечатки несут главную информацию о причинах страдания пациента. Нет ничего удивительного в том, что исконная связь сказаний с показом до сих пор может быть обнаружена в самых разных языках. Так, например, в тюркских языках: а:йа – «ладонь»; аи – «говорить»; айт – «говорить»[26].
Координатные сети из пальцев, накладываемые рефлекторно или сознательно на больное место, позволяют не просто сетовать, но и отмечать координаты больного места. Они являются не только первыми констататорами бедственного положения, но и первыми марлями, мерилами, которые породили представление об измерении тел, смертельной боли, о неотложных мерах, мерных пространствах, которое лежит в основе нашего мировоззрения, в основе мировоззрения древних. Органы, посредством которых мы мнем тело, породили мнение, менталитет, умение, ум, суммы. С ними связаны представления о маете, мете, примете, предмете, разметке, математике.
Связь наших горстей с горестями, с разметкой, с мучениями может быть продемонстрирована чисто формально на примере разных звуковых языков, которые продолжают сохранять свою исконную связь с жестами. В арабском языке: мəраз – «болезнь, хворь»; мəрам – «намерение»[27]. В тюркских языках: өл – «умирать»; өлч – «измерение»[28]. В индоевропейских языках связь смерти с мерой, долей настолько очевидна, что об этом факте говорят уже многие исследователи. Так, например, в словаре русских суеверий М. Власовой говорится: «Семантику наделенности долей может иметь и слово “смерть”, восходящее к индоевропейскому ряду mer- / mor- / mr-, который ставится в связь с такими “культурными словами”, несущими значение “части”, как греческое “мойры” и восточнославянское Мара»[29].
Рефлекторный захват больного органа посредством естественных мер породил представление о мертвой хватке. Так, например, в татарском языке сохранилось выражение үлекләр тота – «мертвые хватают». По всей видимости, этот процесс породил и исходные представления о Книге мертвых. В оккультной литературе до сих пор упоминается загадочная книга Тота. В погребальных ритуалах Тоту отводится главная роль: он ведет каждого на тот свет. Лунное божество Тот научил людей мудрости, счету, письму. При счете на пальцах в качестве указателя традиционно используется ноготь на большом пальце руки. Он играет активную роль и при мертвой хватке, и при удержании пера. Это дает веские основания для отождествления лунного бога Тота с лункой на большом пальце правой руки.
В Греции с Тотом сближали вестника богов Гермеса, который также считался проводником в мир иной и родоначальником тайного (то есть герметического) знания. Если внимательно присмотреться к древним скульптурам и рисункам Гермеса (Меркурия), то можно заметить, что их главным фигурантом является большой палец правой руки.
Исконная связь человеческих ран с прессой, экспрессией, таврением, творением, артистизмом может быть прослежена на примере самых разных языков. Так, например, в современном татарском языке:
яра – «рана», «ранение», «раневой»;
ярлы – «раненый», «имеющий рану»;
ярлык – «письменный указ», «грамота хана», «этикетка», «ярлык»;
ярату – «создавать», «создать», «творить», «создание», «творение»[30].
Основополагающую роль печати, впечатлений в познании естества, в естествознании подчеркивают самые разные языки. Так, например, в арабском языке:
табгы – «печатанье», «характер», «природа», «естественное состояние»;
табигать – «природа», «натура», «природное свойство предмета», «качество»;
табигыят – «явления природы», «естественные, физические науки»;
Не отрицает основополагающую роль отпечатков и современная наука. Так, например, Б. Рассел (1872–1970) в своей книге «Человеческое познание: его сфера и границы» писал: «Порядок познания является обратным по отношению к причинному порядку. В порядке познания первичным является кратковременный, субъективный опыт астронома, рассматривающего черные и белые пятнышки на пластине, а последним – туманность, обширная, отдаленная и принадлежащая далекому прошлому»[32].
Пять наших пальцев породили не только первые пятна, но и широчайший спектр понятий, связанных с патовой ситуацией, патогенезом, патетикой, апатией, симпатией, опытом, патентованием и т. д. Видно, что осмысление, упорядочивание этого жизненно важного опыта изначально происходило системно, в формах, которым присуща универсальность. Конкретизировать эти формы пытались Юм, Кант, Кассирер, однако чистое умозрение не позволяет реконструировать первые меры, первые мироздания, первые универсумы, первые системы координат. Не догадки философов, а наши рефлексы способны пролить свет на истоки рефлексии, увидеть исходную сеть категорий, составленную из пальцев.
Исходный язык – язык поэзии (позы), язык геометрии. Он предельно выразителен, системен, научен, строг[33]. Сетки, стихи, вирши стихийно обеспечивают четкое позиционирование. Все наши единицы, все наши соло являются исходными словесами, а также естественными клавишами, надавливая на которые можно определить больное место с повышенной степенью точности. Сеть, наложенная на больное место, на раны, изначально обозначает наш стан, нашу стать, наши страны, стороны, страдания, поэтому первозданный космос зачастую трактуется как посмертная трансформация человеческого тела.
Исходная сеть, посредством которой мы учимся сетовать, позволяет познакомиться и с исходным сайтом, с исходной машиной, которая позволяет не только махать, но и обучать машинному языку, логике, математике. Касаясь большим пальцем четырех смежных пальцев, можно обнаружить первую тетрадь, первый тетрис, первые титры, первый театр. Пять пальцев являются первыми паяцами. Без актеров немыслимы первые представления, первые акции, первые реакции.
Изучение рефлекторного языка жестов, введенного в культуру матерями, позволяет пролить свет на истоки идеального (психического). Идеальное может трактоваться как универсальный материальный субстрат, выступающий в качестве заместителя любых конкретных вещей, явлений, процессов. Рука вполне способна выступить в качестве такого универсального субстрата. Язык жестов играет огромную роль и в процессе приобщения ребенка к вторичным знаковым системам.
Факты свидетельствуют, что в качестве главной движущей силы антропосоциогенеза следует рассматривать не половой подбор или половой инстинкт (по Ч. Дарвину) и не орудийную деятельность (по Ф. Энгельсу), а материнский инстинкт, который по своей природе социален и духовен. Наличие этого инстинкта делает беспочвенными любые попытки противопоставлять биологическое социальному, а также фантазировать по поводу природы социального, духовного.
Человек, человечество являются носителями абсолюта родительской любви, любви к слабому, беззащитному. К. Д. Ушинский писал: «Что же касается до отличия инстинктивной материнской любви, общей всему живущему, от материнской любви женщины, то это различие заключается в том, что тогда как инстинктивная любовь прекращается. материнская, чисто человеческая любовь, не знает себе предела»[34]. Побуждая взрослеющих детей заботиться о слабых, больных, беззащитных, обучая их сочувствию, состраданию, приобщая их к самой мудрой и человечной науке, матери приобщают их к абсолюту, который способен породить не только человека, но и человеческое общество. В ходе пропаганды этого абсолюта происходит знакомство с исходным универсумом и воспроизводится мировоззрение «золотого века».
[1] Выготский, Л. С. Избранные психологические исследования. – М., 1956. – С. 56–57.
[2] Флоренский, П. А. Органопроекция // Русский космизм: Антология философской мысли / сост. С. Г. Семенова, А. Г. Гачева. – М., 1993. – С. 149–150.
[3] Диоген. Письма // Антология кинизма: фрагменты сочинений кинических мыслителей. – М., 1984. – С. 220.
[4] Ушинский, К. Д. Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической археологии / В. И. Максимова // Педагогическая антропология. – М., 2001. – С. 92.
[5] Алексеев, В. П. Становление человечества. – М, 1984. – С. 384–444.
[6] Воронцов, В. А. О природе вещей и педагогической археологии. – Казань, 2009. – С. 2.
[7] Фоули, Р. Еще один неповторимый вид. Экологические аспекты эволюции человека. – М., 1990. – С. 224.
[9] Линдблад, Я. Человек – ты, я и первозданный. – М., 1991. – С. 181.
[10] Семенов, Ю. И. Как возникло человечество. – М., 1966. – С. 133.
[12] Иохельсон, В. И. Материалы по изучению юкагирского языка и фольклора, собранные в колымском округе. – СПб., 1900. – С. XIII.
[13] Выготский, Л. С. Собр. соч.: в 6 т. – М., 1983. – Т. 3. – С. 272.
[14] Алексеев, В. П., Першиц, А. И. История первобытного общества. – М., 1990. – С. 8.
[15] Воронцов, В. А. О театре волжских булгар и природе театрального искусства. – Казань, 2008. – С. 166.
[16] Исенина, Е. И. Дословесный период развития речи у детей. – Саратов, 1984. – С. 150.
[17] Воронцов, В. А. Природа языка и мифа. – Казань, 2008. – С. 121.
[18] Гоголь, Н. В. Соч.: в 6 т. – М., 1959. – Т. 1. – С. 184.
[19] Чеснов, Я. В. Проглоченное знание и этнический облик // Фольклор и этнография: Проблема реконструкции фактов традиционной культуры: сб. статей / отв. ред. Б. Н. Путилов. – Л., 1990. – С. 169–180.
[20] Маркс, К., Энгельс, Ф. Соч.: в 30 т. – М., 1957. – Т. 8. – С. 9.
[21] Буслаев, Ф. И. Народный эпос и мифология. – М., 1990. – С. 23–24.
[22] Кочергина, В. А. Санскритско-русский словарь. – М., 2005. – С. 188.
[23] Лукреций Кар. О природе вещей: в 2 т. – М., 1946. – Т. 1. – С. 339.
[24] Романэс, Д. Духовная революция человека. – М., 1905. – С. 142.
[25] Рябушкин, Н. В. Наказанье ли божье? Медицина и религия. – М., 1988. – С. 14.
[26] Севортян, Э. В. Этимологический словарь тюркских языков. – М., 1974. – С. 761.
[27] Хамзин, К. З. и др. Арабско-татарско-русский словарь. – Казань, 1965. – С. 318–319.
[28] Севортян, Э. В. Указ. соч. – С. 375.
[29] Власова, М. Русские суеверия: энциклопедический словарь. – СПб., 2000. – С. 482.
[30] Татарско-русский словарь. – М., 1965. – С. 712–714.
[31] Хамзин, К. З. и др. Указ. соч. – С. 537–538.
[32] Рассел, Б. Человеческое познание, его сфера и границы. – М., 2000. – С. 27.
[33] Воронцов, В. А. Геометрия языка и язык геометрии // Геометризация физики: Тр. межд. конф. – 1990. – С. 232–236.
[34] Ушинский, К. Д. Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии / В. И. Максимова // Педагогическая антропология. – М., 2001. – С. 139.