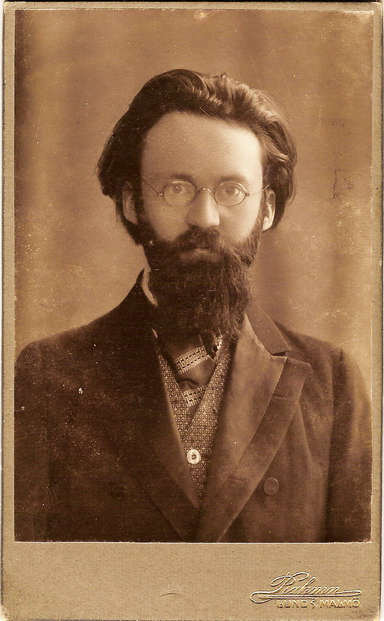какую премию вручили ивану алексеевичу бунину 10 декабря 1933 года
Хрустальная яхта Ивана Бунина
«Один я был в полночном мире…»
А что же Бунин? Он, конечно, переживал. Но 10 декабря 1933 года, как написала западная пресса, «король от литературы уверенно и равноправно жал руку венчанному монарху». Вечером в Гранд-отеле в честь нобелевских лауреатов был дан банкет, где писатель выступил с речью. С особой горечью он произнес слово «изгнанник», вызвавшее у публики «легкий трепет». Нобелевская премия составила 170331 крону или около 715000 франков.
Значительную часть ее Бунин раздал нуждающимся, а распределением денег занималась специальная комиссия. В интервью корреспонденту газеты «Сегодня» он рассказал: «Как только я получил премию, мне пришлось раздать около 120000 франков… Знаете ли вы, сколько писем я получил о всепомоществовании? За самый короткий срок около двух тысяч таких посланий». И писатель никому не отказал.
В его фондах среди прочих уникальных экспонатов хранятся серебряные поднос и солонка. Говорят, что именно на них писателю, когда он приехал в Швецию, эмигранты поднесли хлеб-соль. На обороте подноса выгравирована надпись: «Ивану Алексеевичу Бунину от русских в Стокгольме в память 10.12.1933 г.». А на солонке стоит монограмма «И.Б.» и написано «От русских в Стокгольме в память 10.12.1933 г.». Известно, что Бунина несколько раз выдвигали на соискание Нобелевской премии. Впервые это произошло в 1922 году по инициативе Ромена Роллана.
Повторные попытки были предприняты в 1926, 1930 и 1931 годах. Но Нобелевскую премию писатель получил лишь в 1933 году. Фактически он получил ее за роман «Жизнь Арсеньева», которую многие до сих пор воспринимают как биографию самого писателя. Однако Иван Алексеевич от этого открещивался. Создатель и заведующая музеем писателя Инна Костомарова, великий труженик и исследователь творчества и жизни Бунина, рассказала, что английский перевод романа вышел в Лондоне в марте 1933 года.
А 9 ноября того же года Шведская академия решила присудить премию «Ивану Бунину за правдивый артистический талант, с которым он воссоздал в художественной прозе типичный русский характер». Характер, надо сказать, непростой. Ведь даже судьба музея писателя сложна, как жизнь самого Бунина. Воспетый им Орел, которому писатель не раз признавался в любви в своих произведениях, до середины 1950-х годов даже имя Ивана Алексеевича если и произносил, то шепотом.
«И все ж придет, придет пора…»
А отправной точкой увековечивания памяти писателя в нашей стране стало открытие в Орле в 1957 году зала, посвященного жизни и творчеству Бунина. Его создали в музее писателей-орловцев. С того дня коллекция бунинских меморий начала пополняться. Многие, знавшие писателя и хранившие у себя его вещи, бывало, сами выходили на связь или же их находили музейные работники. Коллекция росла, и скоро стало ясно, что в одном зале Бунину будет тесно.
По словам Инны Костомаровой, еще сложнее оказалась судьба парижского архива Бунина. Его унаследовал писатель Леонид Зуров, друживший с семьей Буниных В 1961 году он вступил в переписку с директором Орловского литературного музея о продаже через Минкультуры СССР всей обстановки парижской квартиры писателя. Он считал, что именно в Орле должен быть создан музей Бунина. Переписка продолжалась до 1964 года.
«У птицы есть гнездо, у зверя есть нора»…
«Ледяная ночь. Мистраль…»
Одна из комнат ныне напоминает читальный зал библиотеки. Такова была воля Сергея Крыжицкого, пожелавшего, чтобы переданные им книги были доступны для желающих. Но «сердцем музея» является не «читальный зал», а парижский кабинет Бунина. Он выделяется среди экспонатов. Много сил было приложено к тому, чтобы перевезти из Парижа личные вещи писателя. По сохранившимся фотографиям в точности и воссоздали бунинский кабинет.
Здесь стоит его простенькая кровать и два рабочих стола, на одном из которых, тоже простеньком, печатная машинка. Физическое ощущение присутствия Бунина в кабинете невероятно велико. Но оно возрастает в сто крат, когда комнату заполняет яркий голос писателя, вдохновлено читающего свое стихотворение «Одиночество». Век назад автор записал его на грампластинке, и запись каким-то чудом дошла до наших дней. Слушая ее, волнуясь, понимаешь, за что современники считали Бунина одним из лучших чтецов в стране…
«Сердце музея» охраняется бережно, с особой любовью и пристрастием, с почитанием, и, может, потому оно не переставало биться даже в самые трудные времена, питая надеждой на лучшее и самих музейных работников, буквально выстрадавших право Бунина на новую орловскую жизнь. Несколько лет из-за плохого технического состояния здания музей для посетителей был закрыт. В нем протекала крыша, а для музея это страшно. Но сейчас эти проблемы позади.
Помогли областные власти и меценаты, выделившие деньги для музея Бунина. Здание отремонтировали и создали экспозицию, над проектом которой много лет трудилась Инна Костомарова. Музей теперь открыт для посещений, он пережил трудные времена, «окаянные дни», но донес до нас то, что хранило время и близкие Бунину люди. А что же Бунин? Писатель больше не одинок, ибо он, как и мечтал, вернулся на Родину.
87 лет назад Бунин стал лауреатом Нобелевской премии по литературе
В 1922 году жена Ивана Алексеевича Бунина — Вера Николаевна Муромцева записала в дневнике, что Ромен Роллан выставил кандидатуру Бунина на получение Нобелевской премии. С той поры Иван Алексеевич жил надеждами, что когда-нибудь он будет отмечен этой премией.
10 ноября 1933 года все газеты Парижа вышли с крупными заголовками: «Бунин — Нобелевский лауреат». Каждый русский в Париже, даже не читавший Бунина, воспринял это как личный праздник. Ибо самым лучшим, самым талантливым оказался соотечественник! В парижских кабачках и ресторанах в тот вечер были русские, которые порой на последние гроши пили за «своего».
В день присуждения премии Иван Алексеевич Бунин в «синема» смотрел «веселую глупость» — «Бэби». Вдруг темноту зала прорезал узкий луч фонарика. Это разыскивали Бунина. Его вызывали по телефону из Стокгольма.
«И сразу обрывается вся моя прежняя жизнь. Домой я иду довольно быстро, но не испытывая ничего, кроме сожаления, что не удалось посмотреть фильм. Но нет. Не верить нельзя: весь дом светится огнями. И сердце у меня сжимается какою-то грустью… Какой-то перелом в моей жизни», — вспоминал сам Бунин.
Волнующие дни в Швеции. В концертном зале в присутствии короля, после доклада писателя, члена шведской академии Петра Гальстрема о творчестве Бунина, ему вручена папка с Нобелевским дипломом, медаль и чек на 715 тысяч французских франков. Нобелевская премия по литературе была вручена писателю «За строгое мастерство, с которым он развивает традиции русской классической прозы».
Друг Бунина, поэтесса и прозаик Зинаида Шаховская в мемуарной книге «Отражение» заметила:
«При умении и малой доле практичности премии должно было хватить до конца. Но Бунины не купили ни квартиры, ни виллы…».
В отличие от Максима Горького, Александра Куприна, Алексея Толстого, Иван Алексеевич не вернулся в Россию. Он не приезжал на Родину никогда, даже туристом.
Какую премию вручили ивану алексеевичу бунину 10 декабря 1933 года
Последнее десятилетие XIX в. обозначилось в России резким размежеванием литературных сил. Об этом времени Иван Бунин говорил: «Я увидел сразу четыре литературных эпохи: с одной стороны Григорович, Жемчужников, Л. Толстой; с другой — редакция «Русского богатства»; с третьей — Эртель, Чехов; а с четвертой — те, которые, говоря словами Мережковского, «уже преступали все законы, нарушали все черты».
Бунин выбрал то течение, которое было связано с именем Чехова, а в более общем плане, с классическими традициями русской литературы XIX в. А вот к четвертому направлению, где процветали декаданс, акмеизм, символизм, мистика, лубок, вплоть до хулиганствующего футуризма, он всю жизнь питал откровенную неприязнь и даже отвращение. Это ясно видно в «Воспоминаниях» Бунина, которые он написал уже в конце своей жизни. Деликатная и интеллигентная жена писателя Вера Николаевна сетовала: «Ян мне такое диктует, такие вещи про Маяковского, Есенина, Горького, что они ему с того света мстить будут».
Внешне стихи Бунина выглядели традиционными как по форме, так и по тематике: природа, радость жизни, любовь, одиночество, печаль утраты и новое возрождение. И все же, несмотря на подражательность, была в бунинских стихах какая-то особая интонация. Это стало более заметным с выходом в 1901 г. поэтического сборника «Листопад», восторженно принятого и читателями, и критиками.
Стихи Бунин писал до конца своей жизни, любя поэзию всей душой, восхищаясь ее музыкальным строем и гармонией. Но уже в начале творческого пути в нем все явственнее проявлялся прозаик, причем настолько сильный и глубокий, что первые рассказы Бунина тут же заслужили признание именитых в ту пору писателей Чехова, Горького, Андреева, Куприна.
В 1898 г. Бунин женился на гречанке Анне Цакни, пережив перед этим сильную влюбленность и последовавшее за ней сильное разочарование к Варваре Пащенко. Впрочем, по собственному признанию Ивана Алексеевича, Цакни он никогда не любил.
В 10-е годы Бунин много путешествует, выезжает за границу. Он посещает Льва Толстого, знакомится с Чеховым, активно сотрудничает с горьковским издательством «Знание», знакомится с племянницей председателя первой Думы А. С. Муромцева Верой Муромцевой. И хотя фактически Вера Николаевна стала «госпожой Буниной» уже в 1906 г., официально зарегистрировать свой брак они смогли лишь в июле 1922 г. во Франции. Только к этому времени Бунину удалось добиться развода с Анной Цакни.
Вера Николаевна была предана Ивану Алексеевичу до конца его жизни, став ему верной помощницей во всех делах. Обладая большой духовной силой, помогая стойко переносить все невзгоды и тяготы эмиграции, Вера Николаевна имела еще и великий дар терпения и всепрощения, что было немаловажно при общении с таким трудным и непредсказуемым человеком, каким был Бунин.
После шумного успеха его рассказов в печати появляется, ставшая сразу знаменитой, повесть «Деревня» — первая крупная вещь Бунина. Это горькое и очень смелое произведение, в котором перед читателем предстала полубезумная русская действительность со всеми ее контрастами, шаткостью, изломанностью судеб. Бунин, пожалуй, один из немногих русских писателей той поры, не побоялся сказать нелицеприятную правду о русской деревне и забитости русского мужика.
«Деревня» и последовавший за ней «Суходол» определили отношение Бунина к своим героям — слабым, обездоленным и неприкаянным. Но отсюда и сочувствие к ним, жалость, желание понять, что же происходит в страдающей русской душе.
Параллельно с деревенской тематикой писатель развивал в своих рассказах и лирическую, которая ранее наметилась в стихах. Появились женские характеры, хотя и едва намеченные — очаровательная, воздушная Оля Мещерская (рассказ «Легкое дыхание»), бесхитростная Клаша Смирнова (рассказ «Клаша»). Позже женские типы со всей лирической страстью проступят в эмигрантских повестях и рассказах Бунина — «Ида», «Митина любовь», «Дело корнета Елагина» и, конечно же, в его знаменитом цикле «Темные аллеи».
В дореволюционной России Бунин, как говорится, «почивал „на лаврах» — трижды ему присуждалась Пушкинская премия; в 1909 г. он был избран академиком по разряду изящной словесности, став самым молодым академиком Российской академии.
В 1920 г. Бунин с Верой Николаевной, не принявшие ни революцию, ни большевистскую власть, эмигрировали из России, «испив несказанную чашу душевных страданий», как позже писал Бунин в своей автобиографии. 28 марта они прибыли в Париж.
К литературному творчеству Иван Алексеевич возвращался медленно. Тоска по России, неуверенность в будущем угнетали его. Потому первый сборник рассказов «Крик», вышедший за рубежом, составляли только рассказы, написанные в счастливейшее для Бунина время — в 1911 — 1912 гг.
И все же писатель постепенно преодолел чувство угнетенности. В рассказе «Роза Иерихона» есть такие проникновенные слова: «Нет разлук и потерь, доколе жива моя душа, моя Любовь, Память! В живую воду сердца, в чистую влагу любви, печали и нежности погружаю я корни и стебли моего прошлого. «
В середине 20-х годов Бунины переехали в небольшой курортный городок Грае на юге Франции, где поселились на
вилле «Бельведер», а позже обустроились на вилле «Жанет». Здесь им суждено было прожить большую часть своей жизни, пережить Вторую мировую войну. В 1927 г. в Грасе Бунин познакомился с русской поэтессой Галиной Кузнецовой, которая с мужем проводила там отпуск. Бунин был очарован молодой женщиной, она же, в свою очередь, была в восторге от него (а уж Бунин умел очаровывать женщин!). Их роман получил широкую огласку. Оскорбленный муж уехал, страдала от ревности Вера Николаевна. И здесь произошло невероятное — Иван Алексеевич сумел убедить Веру Николаевну, что его отношения с Галиной чисто платонические, и ничего, кроме отношений учителя и ученицы, у них нет. Вера Николаевна, как это ни покажется невероятным, поверила. Поверила потому, что без Яна своей жизни она не представляла. В результате Галина была приглашена поселиться у Буниных и стать «членом семьи».
Почти пятнадцать лет делила Кузнецова общий кров с Буниными, играя роль приемной дочери и переживая с ними все радости, беды и лишения.
Эта любовь Ивана Алексеевича была и счастливой, и мучительно трудной. Она же оказалась и безмерно драматичной. В 1942 г. Кузнецова покинула Бунина, увлекшись оперной певицей Марго Степун.
Но вопреки всем невзгодам, бесконечным лишениям бунинская проза набирала новую высоту. На чужбине вышли книги «Роза Иерихона», «Митина любовь», сборники рассказов «Солнечный удар» и «Божье древо». А в 1930 г. был опубликован автобиографический роман «Жизнь Арсеньева» — сплав мемуаров, воспоминаний и лирико-философской прозы.
10 ноября 1933 г. газеты в Париже вышли с огромными заголовками «Бунин — Нобелевский лауреат». Впервые за время существования этой премии награда по литературе была вручена русскому писателю. Всероссийская известность Бунина переросла во всемирную славу.
Каждый русский в Париже, даже тот, который не прочитал ни одной строчки Бунина, воспринял это как личный праздник. Русские люди испытали сладчайшее из чувств — благородное чувство национальной гордости.
Присуждение Нобелевской премии стало огромным событием и для самого писателя. Пришло признание, а вместе с ним (хотя и на очень короткий период, Бунины были на редкость непрактичны) материальная обеспеченность.
В 1937 г. Бунин закончил книгу «Освобождение Толстого», которая, по мнению специалистов, стала одной из лучших книг во всей литературе о Льве Николаевиче. А в 1943 г. в Нью-Йорке выходят «Темные аллеи» — вершина лирической прозы писателя, подлинная энциклопедия любви. В «Темных аллеях» можно найти все — и возвышенные переживания, и противоречивые чувства, и неистовые страсти. Но ближе всего Бунину была любовь чистая, светлая, подобная гармонии земли с небом. В «Темных аллеях» она, как правило, коротка, а порой мгновенна, но ее свет озаряет всю жизнь героя.
До конца жизни ему пришлось защищать свою любимую книгу от «фарисеев». В 1952 г. он писал Ф. А. Степуну, автору одной из рецензий на бунинские произведения: «Жаль, что вы написали, что в «Темных аллеях» есть некоторый избыток рассматривания женских прельстительностей. Какой там «избыток!» Я дал только тысячную долю того, как мужчины всех племен и народов «рассматривают» всюду, всегда женщин со своего десятилетнего возраста и до 90 лет».
Последние годы жизни писатель посвятил работе над книгой о Чехове. К сожалению, этот труд остался незавершенным.
Свою последнюю дневниковую запись Иван Алексеевич сделал 2 мая 1953 г. «Это все-таки поразительно до столбняка! Через некоторое, очень малое время меня не будет — и дела и судьбы всего, всего будут мне неизвестны!»
В два часа ночи с 7 на 8 ноября 1953 г. Иван Алексеевич Бунин тихо скончался. Отпевание было торжественным — в русской церкви на улице Дарю в Париже при большом стечении народа. Все газеты — и русские, и французские — поместили обширные некрологи.
А сами похороны состоялись намного позже, 30 января 1954 г. (до этого прах находился во временном склепе). Похоронили Ивана Алексеевича на русском кладбище Сен-Женевьев де Буа под Парижем. Рядом с Буниным через семь с половиной лет нашла свой покой верная и самоотверженная спутница его жизни Вера Николаевна Бунина.
10:0, или Как Иван Алексеевич с Дмитрием Сергеевичем премией не поделился.
Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4
/* Style Definitions */ table. MsoNormalTable
1 октября 1931 года из Парижа в Грасс на виллу «Бельведер», где жили тогда Бунины, приехала парламентарием от Мережковских Ек. Мих. Лопатина, давняя приятельница Буниных по эмиграции. Правда, с Иван Алексеевичем она была знакома ещё задолго до эмиграции, мало того, Бунин в 1897 году был настолько увлечён писательницей-романисткой, что даже сделал ей предложение. На что она расхохоталась (он потом долго помнил эту фразу) — Да как это выходить замуж… Да ведь это можно только тогда, если за человека голову на плаху можно положить.
После 1917-го уехала во Францию, была дружна с Зинаидой Гиппиус; в Париже на литературных «воскресеньях» у Мережковских возобновилось её знакомство с Буниным. А с его женой Лопатина тоже подружилась, хотя и была старше Веры Николаевны на 16 лет.
После исхода из большевистской России огромного числа тех, кого ненавистный им Ленин называл не мозг нации, плотность русского литератора на французскую брусчатку была впечатляющей. Тогда все, кто не был ювелиром, адвокатом, протезистом, кто не вывез с собой мало-мальски доходный бизнес, не умел шить шляпки, не таксомоторил, все — что-нибудь писали или перепечатывали старые наработки, жили, что называется литературным трудом.
Кто-то жил лучше, кто-то хуже, но к концу 1920-х, судя по многим мемуарам, всем стало хуже, многие журналы закрывались, гонорары не поступали.
Идея «русского проекта» — присуждение Нобелевской премии писателю-эмигранту родилась в 1922 году у Марка Алданова, тоже эмигранта, тоже писателя, постоянного участника тогдашних сходок-журфиксов и большого поклонника Бунина — Мережковского — Куприна. Присуждение Нобелевской премии русскому писателю-эмигранту — это был бы знак огромного уважения к русской литературе в изгнании. И посыл в Россию от европейского (литературного) истэблишмента к большевикам — смотрите, варвары, кого вы потеряли…
Эту идею подхватили французские писатели, в первую очередь Ромен Роллан: как нобелевский лауреат он мог быть нобелевским номинатором — напрямую выдвигать чью-либо кандидатуру.
Нобелевская премия по литературе начала присуждаться с 1901 года, Лев Николаевич выдвигался 5 раз (1902−1906), пока сам себя не задвинул, попросив ему премии не присуждать — ибо он не знает, что тогда с деньгами делать (Софья Андреевна наверняка знала бы).
В 1914 году Нестор Котляревский (историк литературы, педагог, академик по разряду изящной словесности на кафедре русского языка Академии наук; имел право быть номинатором) решил покончить с несправедливостью — 13 лет существует премия и ни одного русского писателя в лауреатах! — и выдвигает Дмитрия Мережковского, у которого как раз в 1914 году вышло 24-томное собрание сочинений. В России и Европе читали его трилогию «Христос и Антихрист», пьесу «Павел I », роман «Александр I ». У Мережковского были все шансы победить: нобелевский комитет и шведская академия таким образом могли показать, что не поддерживают антирусскую пропаганду, развернувшуюся в предвоенной Германии. Кроме того, у семьи Нобеля были деловые контакты с Россией и они тоже были за присуждение премии русскому литератору. Но надежды не сбылись: война и закрытые границы привели к тому, что в 1914 году премию вообще не присуждали.
В 1915-м Мережковский опять был выдвинут, теперь номинатором был шведский академик Karl Alfred Melin — в России было не до выполнения всех необходимых процедур по выдвижению. Но на этот раз Мережковского обошёл как раз Ромен Роллан.
Интересно, что в русской версии «Список лауреатов Нобелевской премии по литературе по годам» Мережковского почему-то вообще нет в списке за 1915 год:
Наверное, этих двух подряд выдвижений 1914−1915 было достаточно, чтобы Дмитрий Сергеевич проникся до мозга костей поразительной убеждённостью — как никто другой он этой премии достоин и надо только чего-то захотеть в жизни, например, Нобелевской премии, и это будет. Об этом его «захотеть премии» есть и у В. Н. Буниной в «Устами Буниных», у Одоевцевой, у Марины Цветаевой.
Однако в 1923 году Р. Роллан (большой почитатель Горького) выдвинул свою «тройку» — обойдя Мережковского — Горький-Бунин-Бальмонт, а не тех, что предлагал Алданов (Бунин-Мережковский-Куприн).
А потом весь конец 1920-х годов тянулся под знаком «страсти по Нобелю»; из сентябрьского письма 1926 года Алданова Бунину «Думаю, что у русских писателей, то есть у Вас, Мережковского и — увы — у Горького, есть очень серьёзные шансы получить Нобелевскую премию. С каждым годом шведам всё труднее бойкотировать русскую литературу. Но это всё-таки лотерея…»
В 1930 году профессор-славист старейшего шведского университета в Лунде Сигурд Агрелль ( Sigurd Agrell ) выдвинул Мережковского и Бунина с примечанием, что премия может быть присуждена одному Мережковскому или поделена с Буниным (одна премия на двоих — такое уже бывало в истории нобелевских литературных присуждений)
В 1931 году Sigurd Agrell опять выдвигает их же с примечанием дать премию — на двоих.
Вот тогда-то Дмитрий Сергеевич и отправил Лопатину к Бунину с предложением: написать друг другу письма и удостоверить их у нотариуса, что в случае, если кто из них получит Нобелевскую премию, то другому даст 200000 франков.
Бунин отказался. Вера Николаевна записывает в дневнике «. в этом есть что-то ужасно низкое — нотариус, и почему 200000? Ведь, если кто получит, то ему придётся помочь и другим. Да и весь этот способ очень унизительный… У меня почти нет надежды, что Ян получит, но всё же, если получит, то почему дать такую сумму Мережковскому? Ведь у нас есть и более близкие друзья. Если же получит Мережковский, то je ne tiens pas — их счастье!».
В 1932 году Sigurd Agrell опять их выдвигает и опять примечает, чтобы приз был общим или любому кандидату из двух. И опять Мережковский предлагает «застраховаться» на случай получения премии кем-то из них двоих и опять Бунин не соглашается, а Вера Николаевна пытается сгладить ситуацию, говоря, что Бунин суеверен, да и вообще вряд ли дадут русским…
1933 — Sigurd Agrell выдвигает троих, ставя на первое место Бунина. Или чтобы был общий приз: Бунин — Мережковский или Бунин — Горький. За Бунина в 1933 году кроме Агрелля хлопотали ещё 4 номинатора. Итог известен. Зинаида Николаевна написала Вере Николаевне — поздравляем и завидуем. Цветаева потом напишет в письме подруге «Мережковский и Гиппиус — в ярости. М. б. единственное, за жизнь, простое чувство у этой сложной пары… Их сейчас все боятся, ибо оба, особенно она, злы. Злы — как духи».
Осталось сказать, почему 10:0. 10 — столько раз Мережковский номинировался на премию. Ведь Sigurd Agrell потом ещё и в 1934, и в 1935, и в 1936, и в 1937 выдвигал и выдвигал — теперь уже только одного Мережковского. Может, он бы выдвигал его и дальше, но в 1937 году в возрасте 56 лет Sigurd Agrell умер от сердечного приступа. И больше Мережковского никто не выдвигал, а в декабре 1941 и Мережковский умер…
Я пыталась найти причину такой (что ли) преданности шведского профессора Мережковскому (8 раз номинировал). Но сведения про Агрелля скудны.
Профессор-славист, рунолог, поэт, переводчик, переводил на шведский славянские легенды и рассказы Бунина, его перевод «Анны Карениной» в 1925 году стал самым популярным в Швеции. Стихи начал писать с 16-лет, проявлял большой интерес к символистской поэзии (вот тут привет отцу русского символизма Мережковскому), а так, никакой особой связи у Агрелля с Мережковским не было, рекомендации шведских переводчиков, обычная предпремиальная переписка. Мне представляется такой деликатный шведский интеллигент, который понимает, в каком стеснённом материальном положении оказался Мережковский и своими номинациями хоть как-то хочет приободрить его моральный дух. Наверное, если бы всё только от него зависело — Мережковский был бы лауреатом. Но не вышло.
Пост посвящается нобелевскому комитету, присудившему премию по литературе Бобу Дилану, который, говорят, не просто бард, но бард-философ… Ну, хорошо, что тоже философ Мережковский до этого не дожил. Он, конечно, ещё тот гад был, когда в 1941 году Гитлера приветствовал, но если к литературе — литературное наследие его огромно. И достойно уважения — чтобы вспомнить…